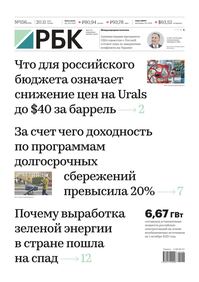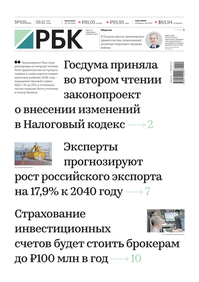В 2024 году среднегодовая неполная занятость в России достигла 4,61 млн человек (+6% к 2023 году, или 270 тыс. человек) — что стало максимумом с 2015 года (более ранней статистики нет). Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата (обзор есть у РБК).
Предыдущий максимум фиксировался в пандемийном 2020 году — тогда на фоне локдауна и экономического спада 4,25 млн россиян работали на урезанной ставке, простаивали либо находились в отпуске за свой счет.
При этом в квартальном выражении пиковое значение неполной занятости за 2024 год пришлось на третий квартал — тогда она насчитывала 4,93 млн человек. «Ввиду свойственной рынку труда сезонности именно на третьи кварталы приходятся максимумы частично занятых в течение года», — пояснили аналитики FinExpertiza.
Представленные данные о неполной занятости Росстат публикует ежеквартально, и они являются достаточно специфичными, указывает старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. «Более чем две трети от 4,7 млн частично занятых по итогам четвертого квартала 2024 года — это работники, имевшие хотя бы один день отпуска без сохранения заработной платы. Именно за счет этой группы растет неполная занятость, по данным Росстата, за последние несколько лет», — объясняет он.
Вероятно, рост востребованности таких отпусков связан с общим увеличением продолжительности рабочего времени, в результате чего сотрудники вынуждены чаще пользоваться этой опцией для выполнения некоторых нерабочих обязанностей, продолжил Ляшок. Как писал РБК, среднее рабочее время в 2024 году составило 38 часов 13 минут — это примерно на одну минуту меньше, чем годом ранее.
Как следует из аналитики FinExpertiza, в четвертом квартале 2024 года за год из трех категорий частичной занятости действительно сильнее всего увеличилось число сотрудников, написавших заявления на отпуск без сохранения заработной платы, — на 8,6%. Число сотрудников, работавших на урезанной ставке, тоже увеличилось, но менее значительно — на 6,7%.
«Причем эта динамика [по работающим неполное время] была обусловлена именно участившимися «недоработками» по соглашению сторон (трудящихся в таком формате стало больше на 6,9%). Формальное же сокращение рабочего времени сотрудников по инициативе работодателя становится все более редким явлением — число переведенных на такой формат не по своей воле сократилось на 21,4%», — обращают внимание авторы исследования.
В то же время общее количество простоев за год (в четвертом квартале), напротив, снизилось — на 2,7%. А число отстраненных от работы уменьшилось на 3,8 тыс. человек, отмечается в исследовании.
Чтобы корректно оценить природу прироста количества работников, которые хотя бы один день находились в режиме неполной занятости, необходимо учитывать ряд дополнительных факторов: среднее отработанное время на сотрудника, динамику заработных плат и уровень безработицы, заявили РБК во ВНИИ труда Минтруда России. Среднее отработанное время за год фактически не изменилось, безработица снизилась (в четвертом квартале 2023 года составляла 2,9%, а в четвертом квартале 2024 года — 2,3%), номинальные заработные платы выросли (на 18,8% в том же квартале).
«Таким образом, некоторый прирост числа людей, которые по тем или иным причинам хотя бы один день не работали или работали неполное рабочее время, — скорее проявление повышения гибкости рынка труда, нежели сигнал о снижении уровня занятости в целом», — полагают во ВНИИ труда.
КАК РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЧАСТИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ ПО ОТРАСЛЯМ
В четвертом квартале 2024 года частично занятые составили 14,1% от среднесписочной численности сотрудников крупных и средних компаний, оценили в FinExpertiza.
При этом среди отраслей наибольшая доля частично занятых фиксировалась в следующих:
• в гостинично-ресторанном бизнесе (29,1%, или 98,8 тыс. человек);
• на обрабатывающих производствах (22,9%, или 1,3 млн человек);
• в строительстве (20,7%, или 229,3 тыс. человек);
• в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (17,8%, или 266,6 тыс. человек);
• в сфере культуры, спорта и развлечений (15,6%, или 109,7 тыс. человек).
Гостиничная деятельность и общепит, а также курьерские услуги — это две отрасли, где распространена работа неполное время по соглашению сторон, объясняет Ляшок. Часто работа в этих сферах является одним из видов подработки, особенно для молодежи. Неполное рабочее время также традиционно распространено в сфере науки, культуры, спорта и предоставления прочих видов услуг, подтвердил эксперт.
«Наиболее подвержены частичной занятости отрасли с высокой сезонностью или нестабильным потребительским спросом. Это прежде всего гостинично-ресторанный бизнес, розничная торговля, а также производство, особенно в регионах», — соглашается зампред комитета по труду и социальной политике Московской торгово-промышленной палаты Наталья Громова.
Тот факт, что число граждан, которые работали неполное время в гостинично-ресторанном бизнесе, выросло, сигнализирует о том, что рынок труда соискателя с сопутствующим ему удорожанием стоимости рабочего времени подтолкнул к формализации неполного отработанного времени, считают во ВНИИ труда. «То есть в условиях высокой стоимости труда работодатели склонны оформлять отгулы в ситуациях, где прежде можно было «устно отпроситься», или оформлять, например, технологический простой на период обслуживания, монтажа-демонтажа оборудования», — указали там.
В наименьшей мере, по подсчетам FinExpertiza, неполная занятость в четвертом квартале 2024 года была распространена в следующих сферах:
• в госуправлении (4,2%, или 127,1 тыс. человек);
• в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром (8,6%, или 108,3 тыс. человек);
• в образовании (10%, или 503,3 тыс. человек);
• в сфере информации и связи (10%, или 106,7 тыс. человек);
• в здравоохранении (11,2%, или 434,7 тыс. человек).
КАК НЕПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ МЕНЯЕТСЯ ПО РЕГИОНАМ
Как отмечается в исследовании, наибольшая доля «недоработавших» в общей численности персонала крупных и средних предприятий фиксировалась:
• в Пермском крае — 17,8% (104,9 тыс. человек);
• в Ярославской области — 17,6% (54,2 тыс. человек);
• в Челябинской области — 17,1% (139,3 тыс. человек);
• в Крыму — 16,3% (53,2 тыс. человек);
• в Санкт-Петербурге — 16,2% (258,2 тыс. человек).
Высокие показатели частичной занятости в регионах, таких как Пермский край, Ярославская и Челябинская области, можно объяснить в том числе структурой экономики: в этих регионах преобладают крупные промышленные предприятия, и при снижении спроса на продукцию они часто переводят сотрудников на неполную занятость или в простой, объясняет заведующая лабораторией доказательной регуляторики Института Гайдара Любовь Филин. Также роль играет недостаточная цифровизация и развитость удаленного труда, что ограничивает гибкость работодателей и работников, добавила эксперт.
Меньше всего, по подсчетам FinExpertiza, неполная занятость распространена в Чечне (2,1% работников), Ингушетии (3,2%), Калмыкии (4,7%), Дагестане (5,8%), Карачаево-Черкесии (6,1%). Все эти регионы характеризуются высокой безработицей и относительно небольшими зарплатами, поясняют авторы исследования.
ПОЧЕМУ РАСТЕТ ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ НЕПОЛНОЕ ВРЕМЯ
По данным аналитиков FinExpertiza, среди других важных индикаторов, сигнализирующих об изменении настроений на рынке труда, следует отметить следующий: число россиян, работающих сверхурочно — свыше 40 часов в неделю, в 2024 году сократилось на 16%.
«Разумеется, нельзя объяснять рекордно высокую неполную занятость, зафиксированную в 2024 году, только стремлением россиян найти баланс между работой и отдыхом. Эффекты кадрового дефицита распределяются по экономике неравномерно, и по-прежнему существуют отрасли, в которых работодатели вынуждены отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска и практиковать другие формы частичной занятости», — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.
Рост частичной занятости в 2024 году выглядит вполне закономерным и соответствует общим наблюдениям, говорит Любовь Филин. По ее словам, это может быть следствием структурных изменений в экономике: стремления работодателей сократить издержки без массовых увольнений, а также сохранить ценные кадры, которые в случае их ухода может быть сложно заменить. «В условиях экономической неопределенности частичная занятость выступает инструментом гибкой адаптации бизнеса», — отметила Филин.
Впрочем, баланс между работой и личной жизнью тоже имеет место в этом вопросе, добавляет эксперт. Особенно такое стремление растет среди молодежи и специалистов с высокой квалификацией, отмечает она.
Запрос на work-life balance актуален для специалистов, работающих в интеллектуальной сфере, женщин с детьми, молодых людей, предпочитающих несколько параллельных проектов, солидарна Наталья Громова. «Частичная занятость все чаще становится осознанным выбором, а не вынужденной мерой», — убеждена эксперт.
По мнению старшего партнера консалтинговой компании ЭКОПСИ, руководителя направления «HR-консалтинг» Григория Финкельштейна, драйвером роста частичной занятости в условиях дефицита кадров стали в том числе ограничения в Трудовом кодексе на количество рабочих часов для человека. Согласно ст. 91 ТК РФ, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.
«Очень многие организации поступают следующим образом. Есть человек, который работает в этой организации. И этот же человек частично устроен, например, в каком-то фиктивном аутстаффере (под аутстаффингом понимается система найма персонала, при которой работники официально оформлены по трудовому договору в сторонней организации-аутстаффере. — РБК). Соответственно, когда его надо вывести на работу третьи сутки подряд (что жестко запрещено ТК РФ), он выходит как сотрудник этого аутстаффера и спокойно работает», — пояснил Финкельштейн.
«То есть отчасти частичная занятость используется для того, чтобы компенсировать дефицит рабочих рук, просто не делая формальных переработок», — добавил он. Как писал РБК, в конце 2024 года Минэкономразвития вышло с инициативой в два раза увеличить допустимую норму переработок, однако в Кремле эту инициативу не поддержали.
ПРОДОЛЖИТСЯ ЛИ РОСТ ЧАСТИЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ
С большой долей вероятности тенденция частичной занятости будет нарастать и в дальнейшем, считает Громова. «Форматы гибкой и частичной занятости будут развиваться. Мы наблюдаем смещение фокуса: стабильность все чаще ассоциируется не с «классической» полной занятостью, а с возможностью управлять своим временем и ресурсами», — отметила она.
Это, по ее словам, отражает трансформацию ожиданий работников и эволюцию управленческих подходов в компаниях: если раньше частичная занятость воспринималась как что-то временное, сегодня она становится частью новой реальности рынка труда.
С тем, что тренд продолжится, согласен и Финкельштейн. Расти продолжит как тенденция на гибкое управление, так и на «прикрытие» переработок из-за нехватки рабочей силы, считает он.
Частичная занятость — это способ адаптации к неопределенности, указывает Любовь Филин. В условиях технологических изменений, автоматизации и растущей популярности гибких форм занятости она будет расширяться, полагает эксперт.